Президент отлучает правительство от бизнеса, элита в замешательстве, а сам бизнес пытается понять, в какую сторону бежать: в предвыборные штабы или прочь из страны… Весеннее метание элиты усугубилось после выступления Дмитрия Медведева в Магнитогорске. О том, как предпринимательское сообщество восприняло «десять медведевских ударов», в какую сторону рулит отечественный госкапитализм и когда закончится «эра ожидания», в интервью «Итогам» размышляет президент РСПП Александр Шохин.
— Вы сами из чьей команды будете, Александр Николаевич?
— Мне кажется, что самое главное — без политической ангажированности делать политику, используя все возможные площадки и создавая новые. На совещаниях, предоставляя слово, президент называет меня «руководителем профсоюза работодателей». Я считаю, что это одна из моих важнейших заслуг: «профсоюз олигархов» стал восприниматься как объединение предпринимателей и работодателей. Бизнес видит в РСПП агента влияния, лоббиста своих интересов. Поэтому в терминах «вы за кого: за большевиков или за коммунистов?» мы диалог не ведем. Экономический рост — основа решения любых задач. Нам бы хотелось, чтобы власть понимала: социальная ответственность бизнеса — это оборотная сторона экономической активности, а вовсе не дележка пирога, который уменьшается в размерах в результате неблагоприятной бизнес-среды.
— И все же к какому центру власти «народная тропа» сейчас особенно не зарастает?
— Предпринимателей порой упрекают, что они научились ходить по двум «тропам» — и в Кремль, и в Белый дом. Но это ведь не потому, что они боятся ошибиться адресом, а потому, что многие ключевые решения — так уж сложилось в тандеме — должны быть подтверждены и президентом, и премьером. Ничего плохого в этом не вижу. Главное, чтобы тандем не занимал принципиально разные позиции. Пока, за исключением некоторых примеров типа Ливии, этого не происходит. По крайней мере в экономической сфере. Сейчас есть возможность проверить, как правительство отреагирует на магнитогорские предложения президента. Мне кажется, что оно даже может предложить собственные меры по улучшению инвестиционного климата, демонтажу госкапитализма, оптимизации налоговой нагрузки.
— То есть неожиданных для правительства поручений в Магнитогорске не прозвучало?
— Совсем уж неожиданных — нет.
— А пятый пункт — о выходе профильных министров и вице-премьеров из советов директоров госкомпаний?
— Года два-три назад правительство в лице вице-премьера Игоря Шувалова, Минэкономразвития и Росимущества уже выступало с похожей инициативой. В результате я, например, стал независимым членом совета директоров ОАО «РЖД». В совете 9 человек. Из них семь независимых. Только президент «РЖД» Владимир Якунин и председатель совета директоров Александр Жуков — «назначенцы» правительства. Знаете, какая у нас проблема? Отсутствие на заседаниях профильных министров. Это ведь от них зависит принятие решений, связанных с деятельностью компании. И в отсутствие этих лиц наши совещания превращаются в беседу профессионалов на заданную тему. А реакции правительства можно ждать долго.
Согласен, когда компания действует в конкурентном поле, курирующий профильный министр или вице-премьер волей-неволей должен ее пестовать. И тут начинается конфликт интересов. Если это, скажем, сильный член кабинета, который может быстро согласовать свои позиции с премьером — скажем, Игорь Иванович Сечин, — то он, проявляя заботу о компании, в которой возглавляет совет директоров, может, действуя уже как регулятор, ущемлять интересы конкурирующих компаний.
— Конспирологическая версия гласит, что инициатива президента как раз и направлена в эту мишень.
— На днях, перед одним заседанием, на которое собрались несколько глав и членов советов директоров госкомпаний, был свидетелем, надеюсь, шутливого разговора. Не поменяться ли местами: Кудрин из ВТБ пойдет, к примеру, в «Роснефть», а Сечин — на его место. Если такое «перекрестное опыление» состоится и новый глава совета директоров начнет договариваться с коллегой по правительству, сменившим его в «профильной» компании, то действительно появляется основание для конспирологических персонифицированных версий. Мол, ладно, пусть курирует другую область, лишь бы не было прямого воздействия на сферу своих интересов… Направлено ли это будет против Сечина, Кудрина, Набиуллиной, не берусь судить. Но эта версия недолго прожила. Вначале речь шла только о профильных министрах, потом появилась дополнительная трактовка: к 1 октября вообще всех вывести из советов директоров, в том числе и высокопоставленных чиновников администрации президента — а у них «профилей» вообще нет, у них совсем другие обязанности.
То есть в процессе подготовки магнитогорских поручений стало ясно, что надо вести речь о замене чиновников на профессиональных поверенных и независимых директоров. Но при этом, к сожалению, на втором плане оказывается ключевой вопрос: а вообще нужны ли нам госкомпании в том виде, в котором они существуют? Президент — в том же пятом пункте, кстати, — дал поручение подготовить график приватизации крупных госпакетов на ближайшие три года. Хорошо бы в этом графике просматривалась и судьба госкомпаний.
— Так или иначе, в прессе уже названы имена тех, кто заменит уходящих министров. Вас в том числе прочат в совет директоров «Аэрофлота».
— Если «Совкомфлот» добавить — в «РЖД» я уже состою, — то стану начальником транспортного цеха.
— То есть вы не в курсе?
— Я сначала об этом услышал по радио, потом прочитал по своему iPad. Но дело-то в другом. Как независимый член совета директоров я участвую в обсуждениях. Возникает вопрос: не надо ли государству снизить свою долю в «РЖД»? К примеру, продать пакет акций и эти деньги пустить на инвестпрограммы «РЖД». Тогда тарифы повышать не нужно. Но вдруг получится так, что государство и деньги эти заберет, и инвестпрограмму урежет? Какой компании в этом интерес?
Как вообще поступать с доходами от приватизации? Передать в Фонд будущих поколений, который можно объединить с Пенсионным? Пустить на развитие компаний? Когда стратегия компании понятна, независимый директор получает соответствующий мандат — это шаг к выходу государства из бизнеса. И директора тогда должны заниматься предпродажной подготовкой. Речь ведь идет не просто о замене чиновников на независимых директоров. Когда нет конечной цели, непонятно, с какой миссией приходят независимые директора.
— Детский вопрос можно?
— Можно.
— Члены совета директоров получают вознаграждение?
— На совете директоров «РЖД» на ближайшем заседании это еще только будет обсуждаться. Два года правительство не могло определиться… В публичных госкомпаниях, где нет 100-процентного присутствия государства, независимые получают компенсацию. Ведь чтобы привлечь директора высокого уровня с международного, глобального рынка, нужно его завлечь в том числе и вознаграждением. Так что расходы на содержание советов директоров вырастут. И это тоже серьезный вопрос: бесплатный член правительства, который лоббировал интересы, или независимый директор, который будет «мешать жить», а ему за это еще и платить надо приличные деньги.
— Президент поручил правительству подготовить предложения «по возможному механизму снижения» страховых взносов. Честно говоря, не припомню, чтобы у нас повышались цены или налоги, а потом через короткое время вдруг снижались.
— Когда наши коллеги из «Деловой России» предложили повысить акцизы, чтобы снизить социальные платежи, мы их предупредили, что это опасная игра. Акцизы-то повысят, но снижать никто ничего не будет. В принципе плохо, конечно, что действует метод проб и ошибок. Но ничего обидного для власти в таком действии нет. Повышение ставок и осознание того, что этот путь всерьез и надолго, понуждает бизнес уводить капиталы и уходить в тень.
Идея бездефицитности социальных фондов, положенная в основу реформы ЕСН, не сработала. Они все дефицитные! Если не использовать принцип, что у каждого фонда должен быть свой независимый источник пополнения, то конца-края этим выплатам не будет. Без реформы социальной системы, социальных платежей мы никогда не выйдем из состояния дефицитности. Парадигма сейчас такова: если денег не хватает — повышайте выплаты. Смотрите: страховые взносы на ОМС есть, а страховой медицины нет. Деньги эти рассматриваются как замена бюджетного финансирования. То же и с пенсионной системой. Мы предлагали провести агрессивную приватизацию госактивов с тем, чтобы как минимум в посткризисный период обойтись без повышения выплат, получая доход от приватизации. Тогда с нами не согласились. Теперь похоже, что передумали.
— В Минфине теперь говорят о возможном понижении ставки страховых взносов до 26 процентов, но одновременно предлагают повысить акцизы на табак. Выходит, не снижаются налоги, а растут и перераспределяются.
— Но будет и модернизация внутри самого налога. Введут, наверное, регрессивную ставку с годовой зарплаты выше 463 тысяч рублей, с которых сейчас не берутся взносы. Кстати, то, что Минфин так быстро отреагировал на поручение президента, говорит как раз о том, что неожиданностей для правительства никаких не было. Другое дело, что если эти ставки будут снижены, то начнут искать, чем бы еще обременить население. Правда, к идее повышения акцизов — на бензин, алкоголь, табак — премьер пока попросил относиться осторожно.
— Еще одно поручение президента. Минэкономразвития наделяется полномочиями, по сути, тормозить ведомственные акты, «затрудняющие» предпринимательскую активность. То есть, МЭР становится суперминистерством?
— Механизм оценки регулирующего воздействия, в котором участвует и РСПП, вполне совместим с предложением Медведева. Важно соединить то, что уже наработано, с инициативой президента, введя ретроспективный мониторинг нормативных актов и процедуры их отмены. К примеру, отменяется плохой правовой акт. Какое законодательное поле будет действовать: то, что принято в начале 90-х или еще в советское время? Поэтому, может быть, надо отменять отдельные пункты документа или заменять их другими.
Что касается МЭР, то оно, конечно, становится органом «над министерствами». Но и ответственность возрастает. Мы-то считаем, что главное — в процедуре, в частности в публичности. Если отдать экспертизу только министерству, это будет неправильно. Должна быть общая ответственность правительства и бизнес-объединений. Ничего принципиально нового. То, что в той или иной форме уже есть, надо «углубить и расширить».
— Александр Николаевич, вы видите ситуацию изнутри. Повалил наш бизнес из страны?
— …Вообще-то говоря, крупный бизнес стратегически мыслит. Ему уходить-то некуда. Виллу, яхту, самолет прикупить можно, но их не может быть десять, двадцать. Поэтому крупные предприниматели, как на галере, прикованы к своим предприятиям. Другое дело, где у них семья может жить, но сами они не могут уйти с концами. А вот средний бизнес, сколотив какую-то сумму, купив квартиру в Лондоне, отдав детей за границу учиться, может почувствовать, что подули холодные ветра, дай отсижусь где-нибудь, а потом посмотрим, что будет к 2013 году, может, климат улучшится. Выход из кризиса позволил именно продвинутому среднему классу утекать из страны. Это может быть явлением циклическим, необязательно связанным с 2012 годом. У людей совпали желания с возможностями, а тут еще и элементы неопределенности подталкивают к этому.
Хотя и здесь речь не идет о том, что люди покидают страну. Это своего рода вахтовый метод: 5 дней в Москве, уик-энд за границей. Обратите внимание: бизнес-класс в самолетах на Лондон все удлиняется…
— То есть неопределенность наш бизнес ощущает?
— В отношении крупного бизнеса этого нельзя сказать. Он уже давно пришел к выводу, что лучше умеет работать на родине. Даже стали уходить из зарубежных активов: морока с профсоюзами, с регуляторами. Хотя многие члены бюро РСПП ордена получили от правительств европейских стран за вклад в экономику — в том числе потому, что они присутствуют там именно как промышленники — industrialists, — а не бизнесмены в смысле «срубить-попилить». Не случайно наши родственные организации в большинстве стран называются конфедерациями промышленников.
— И нет ощущения, что настало время для элиты разбегаться по избирательным штабам?
— Вы думаете, что штабов будет много?.. Кстати, я считал бы не самым плохим сценарием выдвижение двух основных кандидатов в президенты — и Путина, и Медведева. Почему? Потому что тогда им не надо было бы демонстрировать единство взглядов, если, допустим, по некоторым вопросам его нет. Но чтобы параллельно двигаться в президенты, нужно иметь политическую опору. У премьера она есть — он лидер «ЕР». А партии «Правое дело» нужно еще найти лидера. Не так давно один член правительства рассуждал, что, мол, за странное дело это «Правое дело»: хотят, чтобы им назначили в лидеры не просто человека популярного, а чиновника «с ресурсом». Но электорат в этом сегменте капризный, все равно разгадает проект Кремля. Чтобы пройти в Думу и сформировать фракцию, должна быть не технология назначения начальника, а естественное выдвижение.
— На Дмитрия Анатольевича намекаете?
— Если бы Дмитрий Анатольевич возглавил «Правое дело» и, может быть, присоединил к нему еще какое-нибудь «дело», то это был бы серьезный шаг к двухпартийной системе. Так или иначе, это стало бы интересной конструкцией для публичной конкуренции программ… Но я в эту схему не верю.
— Потому, что двум главным кандидатам придется друг друга критиковать?
— Надо иметь в виду и другое. Если, допустим, за несколько месяцев до выборов начинается кампания и президенту с премьером как кандидатам надо разойтись, то возникнет много проблем. Конституция устроена так, что не может премьер критиковать президента по вопросам, не входящим в его компетенцию. По внешней политике и т. д. О чем он и заявил недавно: это компетенция президента. А что за программа кандидата в президенты, где нет внешнеполитического блока, блока безопасности?
— Получается, что надо в предвыборный отпуск уходить?
— А как же региональные и прочие элиты? На кого они будут ориентироваться? Вертикаль ориентируется по вертикали. К тому же за это время много чего можно и в персоналиях поменять, и сенаторов с губернаторами обновить, и переформатировать Думу. То есть не проходит и этот сценарий. «Третий» прийти может, но он должен быть не только избираемым, но и новым. А тот, кто покинул властную позицию, будет восприниматься как «хромая утка». Вот и получается: не могут два национальных лидера внести раскол в элиту, которую они так долго вместе формировали. Логика подсказывает, что объявлять о своих намерениях они будут в последний момент.
— Когда наступит конец «эры ожидания»?
— В декабре, получается, поскольку в декабре пройдут выборы в Думу. Если Владимир Путин № 1 в списке «ЕР», то он может свою думскую кампанию по итогам парламентских выборов трансформировать в президентскую: партия большинства объявит, кого она видит своим кандидатом. Такая конструкция может сработать. Но я, знаете, теперь не политолог и не политик. Я руководитель профсоюза работодателей. А для нас главное, чтобы у бизнеса не прерывался конструктивный диалог с властью.
Наталья Калашникова
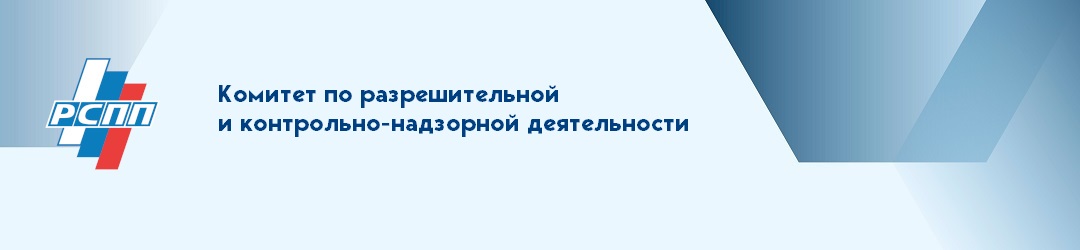
Отправить ответ