Он признал, что избыточное внимание со стороны разного рода контролеров является очень чувствительной темой для российских предпринимателей. Это дает надежду, что работа над подготовленным правительством проектом «Концепции совершенствования контрольно-надзорной деятельности» не только будет продолжена, но и будет идти именно в направлении снижения издержек для отечественных предприятий. Однако одну из главных проблем «государственного контроля (надзора)» в России олицетворяет само его наименование.
Соблюдение Конституции РФ и исполнение законов, действующих на территории РФ, в том числе «органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций», это безусловный предмет надзора. Но прокурорского (п. 1 и п.2 ст. 1, п. 1 ст. 21 Федерального закона о прокуратуре). А «всем органам государственной власти» в пределах их компетенции, как давным-давно постановил Конституционный суд (постановление от 1 декабря 1997 года N 18-П, п. 11), «органически присуща» контрольная функция, а вовсе не надзорная. Тем не менее два этих понятия оказались соединены, слиты, а потом и фактически отождествлены.
Когда федеральный орган призван одновременно осуществлять и контроль деятельности в какой-то сфере, и надзор за соблюдением законодательства в этой же сфере, чрезвычайно трудно удержаться и не попытаться выдать одно за другое. И законодательство, и правоприменительная практика, считая всю деятельность какого-либо органа совокупностью видов «государственного контроля (надзора)», сами не замечают того, что тем самым исходят из презумпции виновности граждан и организаций. Два совершенно разных вопроса — исследование фактического состояния определенных объектов или протекания определенных процессов на предмет наличия угроз безопасности (контроль) и рассмотрение вопроса о факте неисполнения конкретным лицом требований законодательства, то есть нарушения закона (надзор), и наличии вины этого лица в таком нарушении — не просто рассматриваются одновременно, а сливаются в один вопрос. В этой ситуации любой факт несоответствия продукции или деятельности сам по себе неизбежно оказывается правонарушением вне зависимости от степени и даже самого наличия общественной опасности такого «деяния». А основной задачей уполномоченного госоргана выступает только обнаружение, пресечение и наказание таких нарушений.
Подобная позиция чрезвычайно удобна, поскольку практически все подобные правонарушения сводятся к простому выявлению факта нарушения обязательных требований, они автоматически оказываются правонарушениями с формальным составом. Вопрос о реальных или возможных негативных последствиях «нарушения», о самом наличии потерпевшего не рассматривается. Он даже не поднимается.
Особенно простым оказывается смешение вопросов государственного надзора за соблюдением законодательства, с одной стороны, и технического регулирования как контроля соответствия продукции обязательным требованиям, с другой. Логика проста: раз продукция не соответствует обязательным требованиям (или, что бывает гораздо чаще, не имеет документального подтверждения соответствия этим требованиям), следовательно, деятельность не соответствует закону. В результате сложилась практика фактической подмены осуществления финансируемых из бюджета функций реального контроля деятельности всяческими «установлениями состояния», «подтверждениями соответствия» условий осуществления этой деятельности неким априорным критериям и т. п. Для этого нужно всего лишь сделать вид, что и эти критерии, и обязательность их соблюдения, и необходимость подтверждения такого соблюдения установлены законодательно и являются объектом надзора.
В результате регулярное отслеживание деятельности, действительно способной, вероятно, представлять опасность, вырождается в разовую проверку наличия бумажки, в которой написано, что она безопасна. А предоставление многих государственных или окологосударственных услуг — в банальную «торговлю индульгенциями».
Философия концепции, как и всей сложившейся системы гос-контроля, исходит из неправильной и далеко не безобидной предпосылки. Концепция, например, прямо говорит об «обеспечении безопасности путем государственного контроля». Обеспечение безопасности хозяйственной деятельности в первую очередь задача тех, кто ведет эту деятельность, а не государства и его органов. Иначе создается ложное представление, что бизнес только и думает о том, как бы нарушить закон и подвергнуть граждан опасности, и только государство из последних сил стоит на страже их спокойствия.
Главная ошибка в том, что совсем не всякий бизнес, даже что-то нарушив, способен тем самым представлять для кого-то угрозу. Вопрос о необходимости внедрения системы оценки рисков потенциальной опасности различных видов экономической деятельности поставлен в концепции совершенно правильно. Надзор — это деятельность по «триггерному» принципу: «да-нет», «0» или «1», есть нарушение или его нет. Контроль — процесс «реостатного» типа, он разворачивается непрерывно. Законодательство, в частности закон о техрегулировании, понимает «состояние безопасности» как отсутствие недопустимого риска, а не риска вообще. Анализ рисков и организация госконтроля на основе такого анализа только и способны повысить его эффективность. Реальная угроза чьей-либо безопасности сейчас обнаруживается едва в 4-5% проверок. Все остальное, выявляя «нарушения», не выявляет «угроз». И не исправляет их. То есть не делает нашу жизнь безопаснее. Однако анализ рисков может быть реализован только в рамках конт-роля; всякое упоминание о надзоре должно быть выведено за скобки.
Целый раздел Концепции посвящен «совершенствованию практики назначения административной ответственности» (2.4.4). Присвоив себе помимо контрольных еще и надзорные функции, всякий орган власти автоматически начинает мнить себя правоохранительным. Между тем, если задуматься, сама увязка контроля и надзора с административным преследованием — нонсенс.
Пока эффективность деятельности инспектора будет определяться суммой штрафов, которые он выписал, любая служба будет заинтересована в увеличении количества нарушений. Основным итогом любого результативного мероприятия в рамках госконтроля должно быть предписание об устранении выявленных нарушений, представляющих угрозу причинения вреда. А наказуемы могут быть только само причинение вреда и неисполнение предписаний. Пора уже переходить к цивилизованной модели: вопрос о факте нарушения закона вправе поднять только прокуратура, а ответить на этот вопрос может только суд. А в компетенции «органа государственного контроля» (не надзора) только обеспечить их доказательной базой.
Владислав Корочкин, первый вице-президент «ОПОРЫ России»
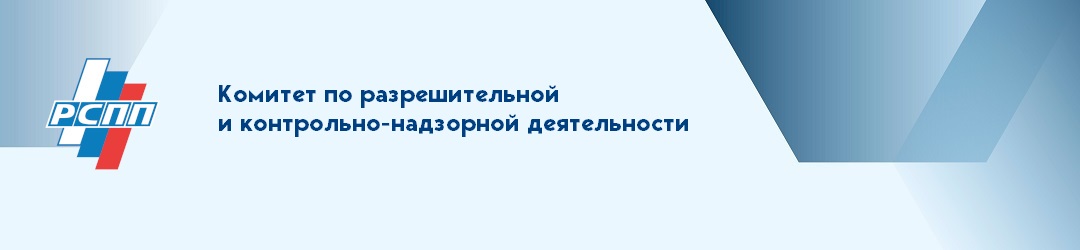
Отправить ответ